Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам

Говоря о расчетах (просчетах?) кремлевских стратегов, не будем с порога отбрасывать официальную версию о том, что контроль коммунистов и преданных им аграриев над рядом ключевых комитетов и аппаратом Госдумы серьезно тормозил прохождение реформаторских законопроектов. Что было, то было. Время между тем поджимает, а законодательных завалов еще предостаточно, так что идея лишить левые фракции гипертрофированного (в сравнении с их численностью) влияния зрела давно. Кроме того, в избирательной кампании, до которой уже рукой подать, парламентский организационно-технический ресурс сам по себе дорогого стоит, и не отобрать его у политических оппонентов, имея на то все возможности, выглядело бы непростительным альтруизмом.
Однако, имея в виду лишь указанные доводы, нынешнее наступление на КПРФ может представляться ошибкой. Ведь коммунистам и впрямь ничего не остается, как не на словах, а на деле стать непримиримой оппозицией. Разумно ли загонять их за политический Можай? Рассуждения о том, что коммунисты сами уготовили себе участь маргиналов, не выказав ни малейшей потенции к трансформации в "нормальную" социал-демократическую партию, абсолютно справедливы, но уверенности в правильности тактики силового давления на КПРФ никоим образом не добавляют.
Вместе с тем главный мотив такого давления, по всей видимости, как раз и заключается в том, чтобы сделать КПРФ маргинальной политической структурой не только по ее официальным установкам, но и по реальному влиянию на дела государственные. Этот замысел предполагает консервацию в парламенте (в том числе по итогам следующих выборов) и вообще на федеральном уровне теперешнего "ущемленного" положения коммунистов в условиях, когда трудно рассчитывать на радикальное снижение в среднесрочной перспективе их электоральной поддержки. (Что касается регионального уровня, то отдельные "красные губернии", конечно, сохранятся; однако заявления того же Зюганова, что, дескать, при поддержке левых избраны десятки губернаторов, – нарочитое лукавство: после избрания такие губернаторы контакты с КПРФ, как правило, замораживают и вполне проявляют послушание Кремлю.)
Замысел этот весьма рискованный, но есть основания думать, что его реализация может оказаться успешной. На этот счет напрашивается ряд соображений.
Первое. Возможный всплеск электоральной поддержки коммунистов просто потому, что их "обидели", в любом случае окажется ситуативным и к началу избирательной кампании наверняка уляжется.
Второе. Результаты некоторых опросов общественного мнения, свидетельствующие о значительном росте рейтинга КПРФ (так, по данным ВЦИОМ от 26 марта, за коммунистов готовы отдать голоса 34% избирателей), вызывают известное сомнение. Достаточно вспомнить, что обычно опрашиваются всего 1500-1600 человек из приблизительно 105 млн. избирателей: как бы там ни стараться сделать выборку из 0,0015% элементов "репрезентативной", относительная дисперсия (то есть погрешность) все равно будет огромной. Иначе говоря, если ВЦИОМ дает цифру в 34%, то допустимый интервал действительной электоральной поддержки составляет от 20 до 50%. Но это и без всяких опросов ясно! К тому же, опросные рейтинги КПРФ вообще обычно выше результатов, показываемых на выборах. И дело не в том, что у коммунистов крадут голоса, а в том, что эмоциональный выхлоп при опросе – это одно, а проставление галочки в избирательном бюллетене, от которой хоть что-то да зависит, – другое.
Третье. Доминирующее положение в Госдуме прошлого созыва коммунисты и прочие товарищи заняли прежде всего благодаря раздробленности остальной части политического спектра. Вспомним, сколько голосов в 1995 году на выборах по партийным спискам ушло в "молоко" – около половины избирателей проголосовали за партии и движения, не преодолевшие 5-процентный барьер. На выборах по одномандатным округам – схожая картина: в силу однотуровой системы левые кандидаты без проблем обходили своих грызущихся оппонентов. Ныне ситуация кардинальным образом изменилась – есть консолидированный центр, есть две (а не двадцать две) правые партии и есть взаимодействие между центром и правыми. Даже если ориентироваться на данные ВЦИОМ, коммунистам ничего особенного на следующих парламентских выборах не светит (про президентские и говорить нечего: по всем опросам Путин побеждает уже в первом туре – Зюганов с его стабильными 15% отдыхает). Действительно, если бы выборы состоялись 26 марта с.г., то, как уверяет ВЦИОМ, в Госдуму по партийным спискам прошли бы: КПРФ – 34%, "Единая Россия" – 21%, ЛДПР – 8%, "Женщины России" – 7%, "Яблоко" – 7%, СПС – 6%. Тогда по партийным спискам коммунисты получили бы 92 думских кресла. При выставлении центристами и правыми единых кандидатов в большинстве одномандатных округов левые в самом лучшем случае могут провести дополнительно не более 60-70 депутатов. Таким образом, верхняя планка представительства левых фракций в Госдуме – 160 мест против около 140 в настоящее время. Это позволит коммунистам гарантированно блокировать (если, конечно, их "одномандатников" не перекупят) конституционные законы. Но и только.
Наконец, четвертое и, наверно, главное. Уже приходилось писать, что собственно коммунистический электорат не превышает 20%, сверх того (потенциально еще до 25%) – это те голоса, за которые коммунисты борются с левоцентристскими и центристскими движениями (а отчасти и с "Яблоком"). Опасность для КПРФ государственно-политической маргинализации, превращения в "партию улицы" (куда сейчас Кремль ее сознательно выталкивает) заключается как раз в возможной утрате влияния на спорных территориях электорального поля. Риск, безусловно, обоюдный: острая конфронтация между Кремлем и коммунистами не только для последних, но и для Путина чревата потерей симпатий части избирателей. Однако простое сравнение рейтингов (согласно все тому же опросу ВЦИОМ, деятельность Путина одобряют 72% россиян) показывает, кто в данном случае рискует больше.
Не удивительно, что коммунисты, которых уличная перспектива вовсе не радует, нервничают и дергаются, а тов. Зюганов то ставит в пример Путину "подвыпившего Ельцина", то старательно разводит президента и его администрацию. Некоторые комментаторы поспешили возвестить, что с организационно-аппаратным переворотом в Госдуме чуть ли не вколочен последний гвоздь в крышку гроба российского коммунизма. Между тем пациент еще скорее жив, чем мертв. Однако то, что смертельный недуг – а именно неспособность ни войти во власть, ни эффективно оппонировать власти – разъедает некогда мощный организм, это верно. Насколько затянется агония – вот в чем вопрос.

Вашингтон рассчитывал извлечь выгоду
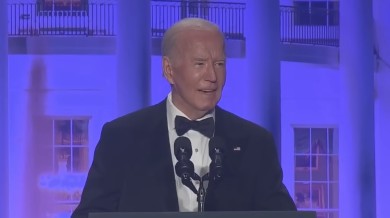
Политик с каждым днем теряет все больше когнитивных навыков
 "Раньше не видела ничего подобного": британцы сняли НЛО в форме конфеты
"Раньше не видела ничего подобного": британцы сняли НЛО в форме конфеты
 Дети массово рухнули на землю во время линейки в честь погибшего на СВО
Дети массово рухнули на землю во время линейки в честь погибшего на СВО