Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам

Любименко И. Как выжить в Пасти Быка. – М.: Вагриус, 2002.
Второй причиной прочтения была конъюнктура, да простит меня за это мстительный бог искусств Аполлон Мусагет, не признающий столь низменной мотивации. Я смутно надеялась, что книжка, рассчитанная на телемассы, породит у меня какие-нибудь мысли, достойные изложения. И, надо же, породила! И не одну, а целых две мысли, да такие большие, что им тесно стало в моей бедной голове. И вот я их излагаю, опасаясь быть поглощенной их агрессивной интеллектуальной экспансией.
Первая мысль, естественно, о литературе. Надо сразу сказать, что телешоу "Последний герой", как и любое другое телешоу, я полностью не смотрела. У меня другой тип восприятия действительности – вербальный, я предпочитаю действо, словесно оформленное, а не отснятое камерой. Правда, кое-какие куски видела, так что представляю, о чем речь. Поскольку же таких как я литературоцентричных индивидуумов какой-то процент всегда сохраняется, при сколь угодно высокой популярности визуальных искусств, то им, возможно, интересно будет узнать, что кроме "литературы вообще" существует "литература для тех, кто видел". Характерные черты ее – динамичность, почти стремительность действия и некоторая оголенность повествования, появляющиеся за счет отсутствия описательных моментов. Зачем описывать то, что все и так уже видели? Я не читаю кинороманов, но догадываюсь, что в них нет никакого намека на внешность или характер какой-нибудь Марианны или Хосе-Антонио или про кого там сейчас их пишут.
Когда Иван Любименко говорит о Боре или Наде, он точно так же полагает, что психологическая характеристика здесь совершенно излишня – потому что Борю и Надю обсудили уже со всех сторон по TV и они не нуждаются в представлении.
А я думаю – нуждаются, и еще как нуждаются! Ведь автор пишет книгу, более того – дневник, который по определению должен содержать личное, утонченно-интимное отношение рассказчика к персонажам, отличающееся от телевизионного, отличающееся вообще от всякого иного. Тем более что тема книги Любименко, как и идея самой игры – индивидуализм, или выбор личной стратегии поведения в морально опасных условиях выживания. Как же обойтись без развернутой психологической характеристики всех действующих лиц?
Впрочем, отнесемся снисходительно к литературным огрехам, принимая во внимание молодость и неопытность автора, а также собственную искушенность и неизменно сопутствующее ей неприятие инородного. Посмотрим на вещи шире! В конце концов, образ Игоря Перфильева автору, несомненно, удался. В конце концов, это вообще не литература, а всего лишь для тех, кто видел. Ну, а я не видела, вот и расшипелась. Все, больше не буду!
Поднятая в этой книге тема гораздо интереснее, чем сама книга, и именно благодаря ей я прочла дневник Любименко "на одном дыхании" (справедливости ради: написан он легко и непринужденно, без претензий). Это и есть вторая мысль, меня посетившая, – о теме. Тема индивидуализма – она вообще бездонная. Хотя любая тема кажется бездонной – до тех пор, пока не начинает казаться исчерпанной. Но до исчерпания конкретно этой на 1/6 суши еще очень далеко.
Игра "Последний герой" скопирована с американского шоу "Survivor", что дословно означает "выживатель". Но откуда взялся "Survivor"? Не кто его придумал, а как стало возможно его придумать? Или: зачем нужно было его придумывать? Ведь ничто не возникает из ничего: даже для миротворенья необходим был Бог и его Желание и Сила, а уж у людей-то и подавно каждая новация имеет под собой хорошо удобренную почву. Спрос порождает предложение. Американским индивидуалам, потомкам диких и нелояльных золотоискателей, вороватых коммивояжеров и честных жуликов, необходимо было выработать социально приемлемые стереотипы поведения в условиях погони за успехом. Американская мечта: каждый может стать президентом (миллионером, кинозвездой – выбирай любое). Да, но как при этом себя вести? Вот в чем загвоздка!
Когда-то в зеленом детстве я зачитывалась американской фантастикой – тем, что проходило строгую цензуру морального кодекса коммуниста. И даже в этом, отобранном и урезанном, ощущала совершенно противоположную тотально-коллективистской тематику. Это было столкновение частнособственнических интересов, конкуренция жестокая и беспощадная. Кошелек или жизнь. Благородство? Да, может быть, но не во вред главному. А главное – быть первым. Главное – достичь вожделенного чего-то, что всегда (всегда!) имеет денежный эквивалент. Причем только для одного – для победителя.
Тогда все это казалось предосудительным в принципе, оптом. Казалось (и критики подтверждали и наставляли в этом), что писатель осуждает своих героев. Что так вообще нельзя. Но – было захватывающе интересно. Сейчас, конечно, ясно, что никто никого не осуждал. Что вообще противостояние этики коллектива и частного собственника было "у них" в числе маргинальных тем. Можно предположить, что science fiction, которую можно включить в перечень чисто американских продуктов, была призвана в том числе (если считать аксиомой существование социального заказа) разработать типичные версии поведения людей, рискующих головой из-за денег.
Та же цель и у игры "Survivor", и у "Последнего героя". Примечательно, что персонажи фантастики и шоу действуют в условиях экзотических, которые по сравнению с обыденностью можно считать выдуманными. Игровое поле было первым виртуальным пространством, еще со времен первобытных магических состязаний, поскольку виртуальность соединяет в себе черты реальности и нереальности, не являясь ни тем, ни другим. Но она абсолютно подлинна для действующих в ней. Можно сказать, что виртуальность – это игра, а правильно понятая игра куда серьезнее жизни, ведь жизнь становится в ней главной и единственной ставкой.
А жизнь, между прочим, измеряется деньгами. Я настаиваю на этом утверждении, хотя уже вижу воочию возбужденные руки моих виртуальных оппонентов, в страстном порыве тянущиеся к клавиатуре. Погодите щелкать, я сейчас поясню, что имеется в виду.
Жизнь измеряется деньгами психологически. Мы все невольно прилагаем к ней денежную мерку, даже когда осознаем свою неправоту. Деньги ассоциируются с благополучием, удовлетворенностью, широким веером возможностей, душевным комфортом, легкостью преодоления мелких и крупных преград и т.д. Одним словом, деньги – это счастье. Можно привести груду подходящих к случаю сентенций на тему "богатые тоже плачут" или "с милым рай в шалаше", но они не искоренят тяги к деньгам. Потому что жить по принципу "бедный и счастливый" – это высокое искусство, иногда достигающее порога святости. Оно состоит в умении распорядиться тем, что есть, сколько бы его ни было. Оно, это искусство, не всем дано, только избранным. Понятно, что сначала нужно овладеть умением распоряжаться, а потом уже захватывать астрономические суммы. Но, как правило, так не бывает, и большинство из нас просто минует переходную ступень: не учите меня жить, лучше помогите материально. А я, мол, сам разберусь, куда мне девать деньги. И они, раздобытые с трудом или свалившиеся с неба, становятся проклятьем.
Впрочем, о том, что будет потом, мы сейчас речь не ведем. Мы рассуждаем о том, что было до того, то есть о желании иметь деньги. О страстном желании. Об ослепляющем вожделении. Оно есть у всех. Подчеркиваю: у всех. За исключением святых отшельников. Не надо бороться с этим желанием, оно так же естественно, как голод и жажда. Как сексуальное влечение. Но нужно определиться: что я хочу на самом деле, когда говорю, что хочу денег? То есть: что я подразумеваю под словом "деньги"? Иногда (если честен сам с собой) это бывает вещь самая немудрящая, и понимание ее значительно утоляет жажду наживы. Порой до полного исчезновения. Но это опять-таки не наш случай. Наш случай среднестатистический: я хочу денег для того-то и того-то и ради них пускаюсь в рискованную авантюру.
Вопрос "что делать?" сразу же перестает быть риторическим и переходит в область чистой и грубой прагматики. Какой имидж и стиль взаимоотношений с окружающими избрать, чтобы их же и обойти? Или чтобы они признали тебя достойным победы? Как лавировать между лучшими врагами и заклятыми друзьями, чтобы на вершине остаться одному? И так далее. Руководства, написанные эпигонами Карнеги, бездейственны, пока не подкреплены наглядным пособием. Таким пособием и послужило телешоу: миллионы долларов и остров в океане! Интересно, что в отборе участников "Последнего героя" большую, если не главную, роль играли психологи. Можно почти безошибочно утверждать, что типажи подбирались по принципу взаимного несоответствия, то есть такие, которые неизбежно вступят в противоборство. Неужели умные психологи не видели, какая плохая девочка Наташа Тэн? Какая лентяйка Ольга? Какой возмутительный тип пан Целованьский? Видели, конечно. Потому и избрали. А вы думали, лучших возьмут? Ха-ха. Тогда бы и игры не вышло: ни тебе конкуренции, ни шпионства друг за другом, ни предательств, ни альянсов.
И здесь я не могу не вернуться к своему злобному шипению по поводу отсутствия в пост-дневнике Любименко развернутых психологических характеристик. Еще сегодня, по свежести события, а также по адресации книги ("для тех, кто видел"), они могут казаться излишними. Но уже завтра, если у этой книги вообще предполагается какое-нибудь "завтра" (то есть переадресация с глазеющей публики на читающую), они могут стать незаменимой и важнейшей ее частью, интереснейшей частью. Почему все сложилось так, а не иначе? Какие именно качества конкретного участника помогли или помешали ему продержаться-выиграть? Ведь удача зависит от персональных качеств и действий, можно сказать – она ими запрограммирована. И удача-то у каждого своя, индивидуальная. Так же как цель или мотивация. Вот такие тонкие, почти неуловимые материи и интересны нынче широкой аудитории. Даже если она об этом не подозревает.
Финал игры, конечно, порадовал. Не знаю, предполагалось это организаторами или нет, но в конце концов вполне по-нашему победила если не дружба (формально), то взаимоуважение. Так, по крайней мере, считает Ваня Любименко. С другой стороны, я лично знаю людей, которые болели за Наташу. Ее тип поведения тоже кому-то пригодится в жизни, он востребован так же, как и благородное одиночество самого Любименко, как и организаторский гений Одинцова. Кстати, финальное противостояние Любименко и Одинцова очень показательно и поучительно: что успешней, слаженная, хоть и взрывоопасная коалиция, или твердыня личной силы и обаяния? Каждый делает выводы самостоятельно.
Одним словом, красочная и жестокая телеигра, появившаяся на наших экранах не раньше и не позже, чем следует (а именно в этом – секрет ее успеха), есть не что иное, как востребованная обществом прививка индивидуализма. Прививка в садово-огородном смысле этого слова: чтобы на рябине росли груши, а на вишне – черешня. Чтобы, иначе говоря, в инфантильной колыбельке родного коллективизма оказался бесстрашный, хищный и умный индивидуализм. И, главное, чтобы мы умели вести себя как индивидуалы, как обладатели частных, личных, враждебных всему миру целей. Чтоб умели с ними справляться и их добиваться. Хорош ли, плох ли индивидуализм, морален или аморален – теперь уже не важно. Потому что он неизбежен – как восход солнца или Новый год.

Вашингтон рассчитывал извлечь выгоду
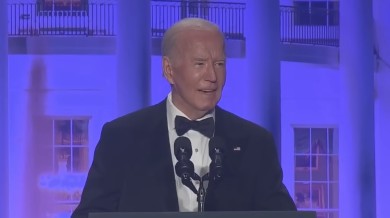
Политик с каждым днем теряет все больше когнитивных навыков
 "Раньше не видела ничего подобного": британцы сняли НЛО в форме конфеты
"Раньше не видела ничего подобного": британцы сняли НЛО в форме конфеты
 Дети массово рухнули на землю во время линейки в честь погибшего на СВО
Дети массово рухнули на землю во время линейки в честь погибшего на СВО