Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам

И если это так, следовательно, 37% американских граждан-первоклашек не могут воспользоваться своим правом на образование, ибо вовсе не владеют английским языком. Для того чтобы начать обучение в школе, им необходимо научиться говорить по-английски.
По результатам проведенного недавно исследования, семья, в которой растет такой ребенок, выглядит следующим образом. Эмигранты из стран третьего мира (мать и отец) работают на неквалифицированной, низкооплачиваемой работе, отчего семейный бюджет отнюдь, как вы понимаете, не профицитен. Доходы – ниже среднего, квартира – в "национальном" квартале, ребенок целый день или дома, или на улице, где общается со сверстниками на языке "исторической родины".
Результатом такой жизни является, в первую очередь, посещение коренными американцами языковых классов, предназначенных для эмигрантов. Однако главная беда не в этом. Плохо то, что детишки не владеют в должной мере и языком своих родителей: они не знакомы с его структурой, не могут выразить свою мысль, и их лексика устрашающе бедна. И нет ничего удивительного в том, что их IQ изначально ниже, чем IQ более грамотных в языковом отношении детей, а уровень образования не идет ни в какое сравнение с потенциально возможным.
37% - это более чем треть, однако на фоне общей численности населения эта цифра, быть может, и не слишком велика. По данным Бюро переписи населения США, в стране на начало февраля нынешнего года проживало 56 млн эмигрантов и их детей. Малышей в возрасте 6-7 лет явно не 56 млн, а с учетом их "растворения" в общей массе школьников – вообще немного. Однако нельзя не учитывать и такой момент: дети имеют обыкновение расти и создавать свои семьи. При этом человек, получающий среднее специальное или высшее образование, как правило, не слишком торопится с потомством, поскольку считает построение карьеры и поиск наиболее адекватного партнера для создания семьи гораздо более значимой задачей, нежели воспроизведение себе подобных. Напротив, для человека с низким уровнем образования и интеллекта приоритетной становится вопрос соответствия своей социальной нише. Часто этот вопрос получает дополнительные оттенки в зависимости от региона происхождения эмигранта. Если, к примеру, речь идет о выходце из Латинской Америки, то в смысле соответствия среде большую роль будут играть религиозные моменты. Однако как бы то ни было, создание семьи, рождение и воспитание детей для социально низкой среды населения всегда и во всех странах считалось показателем зрелости человека, своего рода его визитной карточкой в общении с представителями той же категории граждан.
Как правило, малоразвитые слои населения немного значения придают таким нужным более образованным людям вещам, как наличие собственной философской концепции, способности и готовности к творчеству и т.п. Гораздо важнее, с точки зрения необразованных граждан, быть "как все". В это "как все" включены: супруг, двое или более детей, патриархальность семейной жизни, физическая работа мужа на службе, ведение домашнего хозяйства женой (зачастую при наличии основного места работы), традиционный, консервативный подход к воспитанию детей (мальчики и девочки должны соответствовать определенным гендерным стереотипам), религиозность и система ценностей, в которой большое значение имеют оценки "не хуже людей" и "как у людей" (в понятие "люди" включается большинство членов соответствующего социального слоя). Люди среднего возраста с низким уровнем образования, как правило, гордятся наличием работы и детей. При этом мужчины ориентированы на бесхитростный досуг в обществе своих приятелей, в то время как женщина традиционно считается хранительницей очага, что накладывает на нее дополнительную обязанность быть ответственной за все, что происходит в доме, в том числе за поведение детей. Религия в таких семьях играет чаще всего роль авторитета, на который необходимо сослаться при отсутствии прочих аргументов. Весь этот набор естественно не предполагает интенсивного интеллектуального развития ребенка, воспитанного в такой семье. Для того чтобы маленький человек получил хорошее образование и занялся впоследствии интеллектуальной деятельностью, в дополнение к этому набору необходим здоровый микроклимат, какой еще можно встретить в семьях, проживающих в небольших городках, поселках или деревнях. Однако эмигранты, как правило, не стремятся поселиться в небольших городках, не говоря уже о поселках или деревнях. Селятся они в зависимости от конъюнктуры, то есть там, где существует возможность найти работу, а такая возможность существует, в основном, в мегаполисах или более-менее крупных городах. Таким образом, теряется главное условие интеллектуального развития ребенка в семье с низким социальным статусом. Что и говорить, перспектива у этих детей не самая радужная, а итогом их воспитания станет, соответственно, создание семей точно такого же уровня, рождение детей и их воспитание в точно таких же условиях. Притом, что детей рождается много (с одной стороны, по религиозным соображениям, с другой – благодаря желанию соответствовать социальному статусу, с третьей – из-за невозможности и неумения должным образом использовать контрацептивные препараты), семьи эмигрантов с социально низким статусом пополняют численность населения страны гораздо более существенно, нежели граждане с иным социальным статусом.
Такая ситуация обусловлена еще одним соображением: ребенок, рожденный на территории Соединенных Штатов, имеет все гражданские права, вне зависимости от статуса своих родителей. Таким образом, нелегальным эмигрантам гораздо проще закрепиться в США, и семьи нелегальных эмигрантов будут стремиться к воспроизводству потомства именно на территории этого государства. Соответственно, 37% не говорящих по-английски первоклассников – это лишь видимая часть гораздо более глубокой проблемы, последствия которой в полной мере предстанут перед правительством страны лет через 10-15. А между тем, выход из тупика найти не так просто, как кажется на первый взгляд, ибо программы ассимиляции эмигрантов, даже должным образом разработанные и осуществляемые, действенны только в том случае, если у эмигрантов есть желание ассимиллироваться. Однако сам факт наличия "национальных" кварталов говорит о том, что желания такого у эмигрантов в довольно большой их части не наблюдается. "Национальные" кварталы – это, в сущности, маленький островок "родины", своего рода государство в государстве. Родину бросать, с одной стороны, не хочется, а с другой – иногда просто опасно, особенно если речь идет о каких-то мафиозных или семейных привязках.
Покинуть "национальный" квартал – это, фактически, эмигрировать снова. Проблема чисто психологическая, однако решить ее – означает сделать как минимум очень существенный шаг к адаптации если не собственной, то хотя бы своих детей. Общеизвестно: пока существуют корни проблемы, останутся и внешние ее проявления. Так вот: 37% не говорящих по-английски граждан США – это внешнее проявление проблемы. Ее корни – именно в существовании "национальных" кварталов, не позволяющих людям нормально вписаться в жизнь той страны, куда они эмигрировали. Как будут США решать эту проблему, и удастся ли им сохранить при этом демократические принципы хотя бы на декларативном уровне, покажет время. Ясно одно: так или иначе, рано или поздно, но "национальные" кварталы станут объектом очень серьезной работы федеральных служб, и чем скорее это произойдет, тем с меньшим количеством неприятностей на почве ассимиляции эмигрантов столкнется государство.

Вашингтон рассчитывал извлечь выгоду
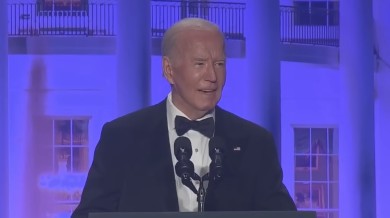
Политик с каждым днем теряет все больше когнитивных навыков
 "Раньше не видела ничего подобного": британцы сняли НЛО в форме конфеты
"Раньше не видела ничего подобного": британцы сняли НЛО в форме конфеты
 Дети массово рухнули на землю во время линейки в честь погибшего на СВО
Дети массово рухнули на землю во время линейки в честь погибшего на СВО