Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам

|
Жалеть Польшу, известное дело, любимое занятие поляков начиная с австрийского владычества. В последние 200 лет поляки жалеют ее надрывно, отчаянно и с некоторой даже истерикой. Справедливости ради следует признать, что Польше, подталкиваемой с одной стороны Россией, а с другой Германией и Австрией, и впрямь приходилось нелегко. И в этом смысле год написания трагедии Словацкого – 1839-й – был далеко не худшим. Можно даже сказать, что Словацкий предсказал в своей "Венеде", насколько хуже все может быть. Увидел пророческим взором трагическое грядущее своей страны.
Если коротко: пьеса описывает ход битвы между племенами венедов и лехитов. Король венедов Дервид попадает в плен к предводителю лехитов королю Ляху и его кровожадной исландской жене Гвиноне вместе с чудесной золотой арфой, приносящей венедам победу в бою, и сыновьями Лелумом и Полелумом. Дочь Дервида, Лилла, пытается освободить отца, трижды спасает его от смерти и все-таки гибнет в финале, вместе почти со всеми остальными участниками трагедии. Вместе с пророками, которых в пьесе минимум три штуки: золотая арфа, сестра Лиллы колдунья Роза Венеда и Святой Гильберт – трагедия принимает устрашающее звучание, кажется прямо сейчас, прямо здесь, прямо по всем законам сумрачного античного финала наступит прямое и окончательное всё.
Всё и конец всего – это именно то, что сделал центром своего спектакля Николай Рощин. Абстрагируясь от времени и места действия, он показывает страдания людей, погруженных в грязную лужу Апокалипсиса. Именно Апокалипсис становится здесь героем нашего времени и главной его приметой. Герои помпезной польской трагедии играют в небольшом бассейне, наполненном мутноватой водицей, – лужа и есть. В эту лужу, на непосредственное место действия, они скатываются по водосточной трубе – как по канализации. На выбеленных мелом лицах застывают различной степени выразительности трагические маски. Святой звенит привешенными к руке шутовскими бубенцами. У ненасытной королевы Гвиноны рот перепачкан кровью ее жертв. А несчастный отец Лиллы – король венедов Дервид – оказывается единственным веселым клоуном среди застывших трагических масок: весело ковыляя по сцене-бассейну, он умильно жалуется "ой-ой-ой-ой-ой" и, хватая дочь за руку, приговаривает: "Лиллочка! Пошли домой". "Давайте попробуем еще раз!" – восклицает король Дервид (Иван Волков) всякий раз, когда действие заходит в безвылазный тупик.
Не надо жалеть актеров – барахтаясь в мутной водице Апокалипсиса, они не чувствуют себя так уж и некомфортно. Рощину удается достичь с ними большего взаимопонимания, чем с большинством зрителей – действие у него живет по своим, биомеханическим законам, где к месту и этюды Мейерхольда, и клоунская традиция XX века. Не привязывая свою постановку ни ко времени, ни к месту, ни к каким бы то ни было реалиям века, Рощин ставит трагедию Апокалипсиса, завершая ее этюдом, построенным на знаменитом опусе Ницше "Так говорил Заратустра". Бог умер – заявляют сидящие за длинным столом; их не двенадцать – одиннадцать, и вместо хлеба и вина (плоти и крови Господней) они хавают из мисок горячую погребальную гречневую кашу. Бог умер, говорят они, и все-таки – давайте попробуем еще раз.
Быть может, спектакль Рощина – это и впрямь блюдо для гурманов. Хотя основное удовольствие для зрителя не в том, чтобы разгадывать аллюзии, вспоминать короля Лира и средневековые мистерии, прислушиваться к кантате Перголези "Stabat Mater". Даже более того – быть может, интеллектуально беспомощный зритель был бы более любезен этому дивному спектаклю. Какая ему была бы разница, кто такой Словацкий и зачем Словацкому Мейерхольд. Рощин наследует той великой театральной традиции, в которой аттракцион сходится с мистерией, механика сталкивается с лирикой, не образуя никаких зазоров в месте стыка. Эта театральная органика не выдвигает на первое место зрелищность, но гарантирует ни с чем не сравнимое удовольствие от чистого театра.
Сегодняшняя театральная ситуация не может не говорить о некоторой общей убогости: смотреть нечего. Можно веселиться на Серебренникове, размножающем свои спектакли до бесконечности, или до упаду хохотать на средней руки антрепризе – наверное это и называется сегодня "коммерческий театр". За "другим" театром публики хлынула в другие залы – так, 39-я аудитория РАТИ постоянно ломится от желающих видеть легендарный курс Сергея Женовача, снова полны народу комнаты студии Анатолия Васильева на Поварской. Николая Рощин делает очень хороший, высококачественный некоммерческий театр. И хотя бы поэтому стоит дождаться следующих спектаклей в апреле этого года и – все-таки попробовать еще раз.
Следующие спектакли – 22 и 23 марта

Вашингтон рассчитывал извлечь выгоду
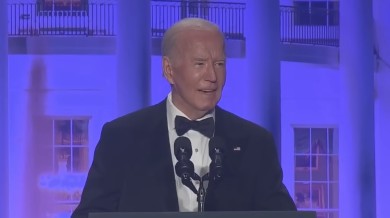
Политик с каждым днем теряет все больше когнитивных навыков
 "Раньше не видела ничего подобного": британцы сняли НЛО в форме конфеты
"Раньше не видела ничего подобного": британцы сняли НЛО в форме конфеты
 Дети массово рухнули на землю во время линейки в честь погибшего на СВО
Дети массово рухнули на землю во время линейки в честь погибшего на СВО